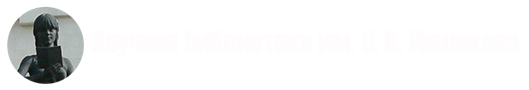Весь советский народ встал на защиту своей страны, проявляя чудеса мужества. Лучше самих фронтовиков никто не расскажет, как это было.
О первых, самых тяжелых месяцах войны вспоминает Миклай Казаков, народный поэт Республики Мари Эл:
– Если в небе зарницы горят, значит – быть урожаю! –
Так народ-землепашец с надеждой всегда говорил.
Я под сломанным дубом однажды сидел одиноко,
Запах спелого хлеба донесся ко мне издалека,
И взволнована снова душа хлебороба во мне.
Но в стремительном марше, топча восковую пшеницу,
Беспощадные танки идут. Как стальные быки.
И в предчувствии горя большого земля шевелится,
И за рощей пехота готова ударить в штыки.
Отделившись от колоса, зерна усеяли поле,
Золотая солома дымится и падает наземь, сгорев…
Это мы подожгли ее с невыразимою болью,
Это мы уничтожили сами богатый посев. (1)

А это отрывок из стихотворения балкарского поэта Максима Геттуева, участника Великой Отечественной войны.
Рассыпавшись по склону,
Который день подряд,
Мы держим оборону –
Нам нет пути назад.
Зарылись в землю роты,
В окопах затаясь,
И с воем самолеты
Пикируют на нас,
Прижались мы друг к другу, –
И, кажется, нет силы,
Чтоб в нужный миг опять
От той грязи постылой
Нам ноги оторвать.
Но вверх взлетит ракета –
В атаку позовет,
И в тусклый час рассвета
Мы кинемся вперед. (2)
О трудных боях под Ржевом и своем ранении рассказывает хакасский поэт и драматург Михаил Кильчичаков:
Год сорок первый. Возле Ржева
Дорога вдрызг разбита вся,
И смерть направо и налево
Свирепствует, бойцов кося.
Огонь сплошной смертельный, шквальный
Большая дымная заря…
Потом на койке госпитальной
Меня латали лекаря.
Лицо – безжизненней бумаги,
И губы синие, как снег…
Как не живет цветок без влаги,
Не жив без крови человек!
О, кто ж ты, близкий и далекий,
Помогший мне восстать с одра.
Мне кровь отдавший в год жестокий,
Мой брат, а может быть, – сестра? (3)

А потом был Сталинград.
Урус, узбек, казах, башкир, адыг
Плечом к плечу на ратном поле встали,
И враг за грань речную не проник:
Сердца бойцов сильней огня и стали.
И были пушки их заряжены
Огнем души и гнева полыханьем,
И отстояли честь своей страны:
Был враг сожжен могучим их дыханьем.
Так описывает битву на Волге кабардинский поэт Адам Шогенцуков, прошедший с боями от Кавказа до Вены. (4)

И от Волги колесо войны закрутилось в обратную сторону. Советская армия начала освобождать оккупированные земли.
С бою взяли село на рассвете,
Не сдержал нас и шквал огневой.
С бою взяли село –
И никто нас не встретил,И души не отыщешь живой.
Где дымились приветливо трубы
И дома протянулись в ряд,
Там теперь, словно черные трупы,
Обгоревшие сосны торчат.
Все вокруг запорошено пеплом,
Только голые печи видны,
До чего же они нелепы
Эти памятники войны! (5)
Такую картину увидел Керим Отаров, балкарский поэт и переводчик, с товарищами на освобожденных территориях.
 И вот она, долгожданная Победа!
И вот она, долгожданная Победа!
Не знаю, сам ли помню, или мама
О том, как было все, поведала потом –
Зашел сосед к нам и с порога прямо
Сказал: «Войне – конец!»
И будто вздрогнул дом.
Отец, домой пришедший по раненью
Недели три назад, привстал из-за стола.
И руки задрожали от волненья –
И, кажется, слеза скупая потекла…
И тут меня он, малого, заметил,
И подхватил легко, и вскинул над собой,
Он позабыл про боль своих отметин, –
И выбежал на улицу со мной!.
Таким этот великий день запомнился чувашскому поэту Порфирию Афанасьеву. (6)
Но недаром поется, что «это праздник со слезами на глазах». Не все вернулись домой. В бурятском селе Бургалтай есть обелиск с именами сельчан, не вернувшихся с войны. На сто дворов – 203 имени.
Я – весь в именах. Сотни выбитых строк
Из одних лишь имен, немудренных и милых!
А кого ими звали – лежат вдоль дорог
От Москвы до Берлина, в братских могилах.
Но вчитайтесь, вглядитесь: во мне двести три
Громко бьющихся сердца, слепящих как пламя,
Жар их душ согревает меня изнутри,
И пою эту песню я их голосами. (7)
Поведал миру эту историю бурятский поэт, автор гимна Республики Бурятия Дамба Жалсараев. Такие обелиски есть во всех деревнях, селах, аулах, станицах России.

Мы убитые – вечно живем.
Возвращаемся в слове и бронзе.
Обелиском высоким из камня
вырастаем и память храним.
Так заканчивается стихотворение «На открытие памятника воинам, павшим на войне» аварского поэта Рамазана Магомедова. (8)
Но еще горше для родных, если солдат считается без вести пропавшим.
Нет меня в списках мертвых,
Нет и среди живых.
А кто меня знал, тот скажет:
Без вести он пропал.
Пал я на поле боя,
Только увидел, как
Вдруг опрокинулось небо,
Легла под меня земля.
Видишь на братской могиле
Вечный огонь горит.
Знай
Что в его полыханье
И моя полыхает жизнь. (9)
Это строки из «Монолога без вести пропавшего» классика удмуртской литературы Флора Васильева.
И все они – павшие и живые, именитые герои и без вести пропавшие – Герои России.
Литература:
1. Казаков, М. Избранное : стихи и поэмы /Миклай Казаков ; пер. с марийского. – Москва : Художественная литература, 1984. – 295 с.
2. Геттуев, М. Вешний мир : стихи / Максим Геттуев ; пер. с балкарского Я. Серпина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 64 с.
3. Кальчичаков, М. Е.Ожившие камни : стихотворения и поэмы / Михаил Кильчичаков ; пер. с хакасского. – Москва : Современник, 1983. – 222 с.
4. Шогенцуков, А. О. Поющее зерно : стихи, поэма / Адам Шогенцуков ; пер. с кабардинского. – Москва : Советский писатель, 1986. – 208 с.
5. Отаров, К. С. Журавлиная песня : стихи. Поэмы. Баллады / Керим Отаров ;пер. с балкарского. – Москва : Советская Россия, 1989. – 128 с.
6. Афанасьев, П. В. Родники под Ильмами : стихи / Порфирий Афанасьев ; пер. с чувашского. – Москва : Современник, 1984. – 61 с.
7. Жалсараев, Д. З. Бурятские напевы : книга стихов / Дамба Жалсараев ; пер. с бурятского. – Москва : Сов. Россия, 1980. – 240 с.
8. Магомедов, Р. М. Хочбар : стихотворения и поэмы / Рамазан Магомедов ; пер. с аварского А. Зорина. – Москва : Современник, 1980. – 111 с.
9. Васильев, Ф. И. Родное : избранное / Флор Васильев ;пер. с удмуртского. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 302 с.